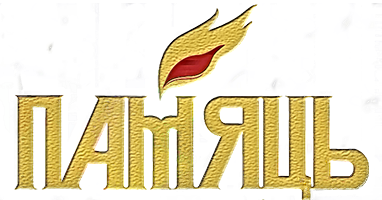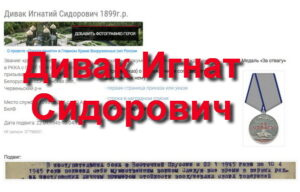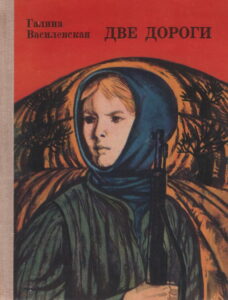209 страница
Огненная память, огненные сны…
Из книги “Я из огненной деревни…” Адамович А., Брыль Я., Колесник В., Минск, 1983.
Полностью книгу, переведенную на русский язык – ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ
В книге Память приведены выдержки-рассказы очевидцев из деревень Лозовое, Маковье, Большая Горожа, Брицаловичи.
В книге “Я из огненной деревни” есть целая глава, посвященная деревне Большая Горожа (название этого населенного пункта указано “Великая Гарожа”) – ЧИТАТЬ ГЛАВУ ЗДЕСЬ
О снах своих, военных, послевоенных, рассказывали, говорили нам многие. Потому что в снах тех – продолжение их мук. Снова и снова, как самую реальность, переживают люди все то – вместе с погибшими и как бы Уже за них.
Даже “коллективные” бывали сны у людей – после того общего ужаса. И такие, что люди в лесу, поговорив, Переговорив утром, вдруг бежали на свои пепелища – настолько реальным приказом были для них ночные, во сне, картины мучений родных, близких…
Мы – у деревни Лозовая, в Осиповичском районе Могилевской области. Несколько женщин, занятых делом около сенажной ямы, узнав, кто и зачем приехал, говорят с нами, перебивая друг друга: и про вчерашнее все, и, еще больше, про сегодняшние дела, заботы, огорчения. И одно с другим переплетено: жизнь у человека одна, и память – тоже одна. Как на дереве: прежде чем дойдет сок от корней до самой последней, самой молодой веточки, должен он пройти через весь ствол, А эти женщины еще и довольно молодые, крепкие, потому сегодняшние заботы для них имеют значение большее, чем для тех, для многих, кого старость “отсадила в сторонку”. Люди, живущие всеми практическими делами, интересами, и вот они нам – о снах. О своих, таких реальных снах. Потому что сама реальность, действительность тогда выглядела жутким сном, кошмаром. Одно переходило в другое, неизвестно где кончаясь…
Из воспоминаний жительницы деревни Лозовое Гришанович Ольги Григорьевны:
“…Мы были в лесу, – говорит Ольга Григорьевна Гришанович, – ну, и пришли из лесу, когда наших спалили. Посмотрели, собрали пепел: дети лежат, кажется, живые. Возьмешь – пепелок рассыплется. В одной хате мы собрали всех. Девять цыбарок – одни беленькие косточки. А в другой – там уже была гора. И кровь видна была, их, видать, убивали. Потому что они в куче, и кровь была. По уголочкам были, под печью. Через год один дед… Ему приснилась жена: “Почему ты меня не похоронишь? – говорит она во сне. – Я ж под печью в мухоморе!” Ну, он никому не сказал, дождь идет, он тихонько эту печь разбирает. Приходим, говорим:
- Дедушка, что ты делаешь?
-
А мне, говорит, Алеся приснилась: “Что же ты меня не похоронишь, я уже целый год лежу под этой печью, в мухоморе, а ты меня не похоронишь”.
Правда, он разобрал эту печь, а там косточки, только косточки остались.
Вопрос: – А как фамилия этого деда?
- Прокопович Виктор. А его жена звалась Алеся. Ну, мы пособирали эти косточки и снова закопали. А когда этих хоронили, придем в лес, наголосимся в лесу.
Снова на пепелище прибежим – приснилось нам: “Что вы нас не похоронили!..” Станем этот кирпич разбирать… Сколько раз прибегали. Раскопаем, раскопаем, найдем, опять эту могилку поправляем. Снова пойдем в лес, ляжем: какой там сон! Но опять снятся: “Вы нас…” Что всех не похоронили. Снова придем и станем этот кирпич разбирать, искать… Ну, так и остались. А как палили – никто не знает. Ни одной души у нас не утекло. Вот уже в соседней деревне, в Бозоке, там в Германию отбирали. А у нас такие были женщины молодые – ни одной души не оставили. Там, так с детьми которые, тех сжигали, а молодых – в Германию.
Вопрос: – А они потом, немцы, поставили здесь гарнизон?
- Это потом уже. А когда жгли, мы прятались в болоте. Трое суток сидели. Залезем на сосну, глядим: никто ни печи не топит, ни воды не носят. Ну, мы решили, что забрали, может, и погнали в гарнизон. Тогда – солнышко заходило – мы говорим:
-
Давай побежим, поглядим, что делается…
Вопрос: – Сколько здесь погибло?
- Сто пятьдесят человек наших только. А тут, говорят, пригнали из Лочина тридцать человек. И тех, что в лесу ловили, тоже в огонь бросали.
Ну, что ж, остались по сегодняшний день. Из всей деревни остались: вот нас троих – она со своими детьми, и еще одна женщина с детьми осталась – три семьи…”.
От администратора ЭКП: Рассказ из деревни Лозовое авторы книги упоминают еще один раз, когда речь идет о памятнике в Брицаловичах. Вот этот эпизод:
“…Нам, собирателям этих воспоминаний, припоминается деревня Лозовая в Осиповичском районе Могилевской области, где около совхозной фермы женщины работали на закладке сенажа. Две пожилые подруги, уцелевшие от фашистского уничтожения, – Ольга Григорьевна Гришанович и Настасья Фомовна (Фоминична) Трепанок (Трепенок).
“…Придем в лес, – рассказывала Ольга, – наголосимся в лесу, снова на пепелище прибежим – приснилось нам: “Что вы нас не похоронили?..” Сколько раз прибегали. Раскопаем, раскопаем, найдем, опять эту могилку прикапываем.
…Через год один дед… Ему приснилась жена: “Почему ты меня не похоронишь? – говорит она во сне. – Я ж под печью…”
Народная мораль говорила когда-то, что не найдет покоя на том свете душа, не оплаканная людьми. Вот и теперь, после этой насильственной гибели, старик даже ео сне чувствовал потребность исполнить перед родными и близкими свой человеческий долг.
Оплакивали убитых и хоронили по старинному обычаю. Не находилось у погорельцев часто даже досок на гробы. Клали покойников в шкафы и сундуки, которые уцелели, потому что в них было обычно зарыто от враг” полотно, одежда… Хоронили и без гробов, едва находили постилку или платок, чтоб прикрыть глаза и руки. Так было, о таком мы слышали в разных углах Белоруссии…”
Из воспоминаний жительницы Большая Горожа Потапейко Марии Дмитриевны:
… Деревня Большая Горожа… Теперь погожее предвечерье. А в лесу, что синеется за житом и за деревней, пошли понемногу первые июньские сыроежки.
Двор, в который мы зашли, аккуратный, ровно поросший чистенькой травой. Много дров, сложенных в стожок. У крыльца бабуля чистит грибы. Сама в резиновых сапожках, еще мокрых: только что из лесу вернулась. Тут оно и пришло, открытие ежегодной радости: после дождя – грибы. И хорошая зацепка для разговора
Марии Дмитриевне (Змитровне) Потапейко семьдесят второй год, хоть с виду столько бы не дал. Подвижная, приветливо веселая. И возвращать ее в давнее, в страшное – не хочется. Да ей и самой неохота. Вот помрачнела сразу…
«…Раненько я печь топлю, блины пеку, ну, а хлопок был у нас, сын, дак он побежал на улицу – уже играться к соседям. Уже бежал он туда, бежал – ой, что-то по улице стреляют, пули свистят!.. Ну, дак мы закричали на него:
- Вот тебе надо бежать, сиди тихонько! Там вдут – може, партизаны, може, немцы, кто ж их знает!..
Ну, идут по селу, идут – немцы, видим, что немцы!.. Тут колодезь был, они поставили пулемет – коров уже с того конца гонят, гонят, гонят.
Мой – на меня:
- Подои.
Надо б идти поциркать, да боюсь. Он:
- А чего бояться! Иди, а то вот заберут корову. Ну, я пошла, циркаю, циркаю…
Вопрос: – Подоить напоследок?
- Ага. Дою. Стреляют. Стреляют по дворам, стреляют. К соседу вот сюда подошли уже, стреляют. Я бросила доить и иду. Только вышла, вот тут встретила – бегут! Во двор бегут, бегут немцы. И спрашивают, есть ли корова, куры есть ли, гуси, кони, овечки – все. Ну, больше ничего у нас не было, только корова еще была, куры еще были… Конь был, дак мы спрятали, спрятан был.
Вопрос: – В лесу?
- Ага, в лесу. Ну, я говорю:
-
Корова есть, куры есть, больше ничего. Вернули меня, чтоб я корову выгнала. Я выгнала им корову. Тогда иду, а они бегут за мной, в хату, бегут. Ну, вбежали и нас во двор гонят, ага, к коменданту. Ну, а мы детей уже оставили, говорим:
-
Детки, побудьте в хате, а мы, может, одни сходим.
Ну, мы пошли, а немцы побежали и повыгоняли детей из хаты, и они снова к нам пришли. Мы уже идем по улице, и идет немец. Один, да два еще… Идут, халаты в крови – и… Встретили нас, спрашивают:
- Партизаны были? Ну, мы говорим:
-
Были. Что ж, были.
-
Сколько?
-
Четыре было подводы.
-
А что брали?
-
Все брали, что им надо. И хлеб, и картошку, и мясо.
Тогда комендант отсюда, с этого конца, подошел и на него: “Гер-гер-гер”. И сказал: коров уже гнать, уже коров в Осиповичи гнать.
Пошел мужик мой. И дочка. Но она видит, что я не иду, дак и она вернулась. Говорю:
- Почему ты вернулась, почему не бежала с отцом? Он там где-нибудь спрячется, и ты б спряталась. А пойдем туда, дак там пожгут, поубивают нас.
Они и, вправду, построили девочек особо и нас особо. Девочек – коров гнать. И спрашивают:
- Партизаны были? Первого спросили. Он говорит:
-
Не было, не видел.
Раз не видел, дак немец его за шиворот… Он дитятко на руках держал. За шиворот и – под сарай, в снег, в сугроб, и убил.
Вопрос: – И ребенка убил?
- Ну, и ребенок там с ним, и ребенка. Ага. Потом жена уже с ребенком старшим за ручку и: “э-э-э!..” – заголосила, заголосила. Он и ее туда, и убил. А мальчик около меня стоял – такой вот мальчик…
Вопрос: – Их мальчик?
- Ага. Рванулся бежать к ним. А я за него, говорю:
-
Не беги, стой, стой!
Он, правда, стал, стоит. И теперь живет где-то в городе, бог его знает. Потапейка его фамилия. А звать как – забыла…”
Воспоминания жителя деревни Большая Горожа Потапейко Константина Карповича (бел. Патапейкі Кастуся Карпавіча):
Мы беседуем в светлой, чистой кухне. У окна тихо стоят две городские внучки, гости на каникулах, одна – подросток, другая – еще дитя. И дед сидит, Кастусь Карпович, хозяин. Он вернулся из сельмага, еще когда мы были с бабулей во дворе. От калитки приветствовал нас Веселым: “Здорово, хлопцы-протопопцы!..” Теперь вот он слушает, молчит, а потом и сам начинает:
«…Это Новый год был, если по старому стилю, в сорок третьем году.
Раненько приехали какие-то и тянут пулемет, – вот тут колодезь был, – все в белых халатах.
Мы сидим в хате. Печка – железная, жестяночка. Четверо детей у меня, малых: самая большая девочка ходила в шестой класс. А то все малые были. Ага. И слышим: стреляют с того конца. Коровы бегут по улице… Ага, а потом вот здесь, на углу, мой дядька жил родной, батькин брат. И вот этот дядька выгнал корову сюда на улицу. Он – раз, застрелил!..
Вопрос: – А вы это видите?
- Ну, в окно мы видим. Ага. Жонка дядькина гвалту наделала. И женку застрелил тут. Потом – двух девок. И девок обеих застрелил. Тут же в воротах. Я и говорю, что это людей бьют. Ага. А потом они в другую хату. Только зашли – в хате стреляют. Ну, а мы сидим так. Потом и в третью зашли – тоже стреляют… Ну, все!
А потом – раз – приехала легковая машина. Вылазит один, уже без халата. Ну, офицер, “комендант” они называли его. Ну, тут они все прибежали уже, собрались, дак он им скомандовал, чтоб не убивать уже, значит, остальных людей. А согнать в одно место.
Они прибежали ко мне и говорят:
- Идите к коменданту. А я говорю:
-
А что – с детьми, брать мне детей?
Дак он махнул рукой: как хочешь, хочешь – бери, хочешь – не. Они знают, что все равно это… Ну, мы собрались с бабой и пошли.
Я говорю:
- Вы, детки, сидите, грейтесь у печки, мы придем, тогда заберем вас…”
Дальше старик, повторяя рассказанное женой, говорит, как тот немецкий комендант допрашивал его, бывают ли тут партизаны, и не застрелил, как застрелил того соседа, который сказал, что партизан не видел.
“…Дак немец мне, – дальше рассказывает дед, – приказал гнать коров в тот конец деревни.
- А там, – говорит немец, – мы еще людей наберем и погоним всех коров в Осиповичи, потому что тут партизанский лагерь, вы тут снабжаете партизан. А деревню мы вашу унистожим.
Так вот сказал. И я погнал этих коров.
А там моя сестра жила. Забежал я в хату к сестре. Забежал: убитые все дотла!.. Свекровь, она, муж и дитенок, человек четыре души.
Они приходят, гады, и командуют: “Ложись тогда вот так – в голову каждому стреляют, вот, поубивают, все…
А кто, так и остались. Вот и Неверовичева напротив – хлопец был на печи, постилкой накрылся, убили сестру, убили мать и отца, а он остался, и теперь живой. Он в Бобруйске работает. И в том конце так же это было…”
Этой семье и еще некоторым повезло. Сорвав зло, каратели сказали недобитым:
- Можете ехать в Татарку, в Замошье, в Осиповичи… А если тут кого изловим – значит, будем убивать. А деревню сожжем всю.
И сожгли….»
Воспоминания жительницы Большая Горожа Марии Михайлик (бел. Марыі Міхайлік)
Мы в другой хате. Марии Герасимовне Михайлик было тогда, в январе 1943 года, восемнадцать лет. И ей тоже удалось спастись. Однако же… Но лучше пусть расскажет она сама.
«…Было темно. Они окружили село и давай стрелять. Мама говорит:
- Дочушка, стреляют, вставай! Я говорю:
-
А что, партизаны? Она отвечает:
-
Партизаны.
Посматриваем мы в окно. Идут в белых халатах. Мать говорит:
- Поотставали, а теперь стреляют. Потому что ночью они ж были у нас, партизаны. Думаем, что ищут они один другого. Мама говорит:
-
Сходи воды.
Я иду воды в колодезь, а они – это немцы – вернули назад:
- Ком в хату! Я вернулась.
-
Мама, они не пустили воды. Идите вы. Маму тоже вернули.
А начали они бить с естого во конца. Я говорю:
- Мама, да там же что-то горит уже.
-
Ну что ж, – говорит она, – горит. Иди корову подои, а то коров забирают, курей бьют.
Ну, я пошла, подоила корову. Тогда мама говорит:
- Курей бьют. Помани в хату курей.
Ну, и сидим в хате. Пришел племянник мой. Спрашивает:
- Были у вас партизаны? Мама говорит:
-
Были, дала им повечерять, хлеба, молока дала, и ушли.
Разговариваем. А тогда она говорит:
- Детки мои, глядите, Прохора ж у нас убивают!..
Это по соседству, через окно мама видит. Еще сестра моя с дочечкой была у нас. Мама говорит:
- Глядите!..
А там три выстрела – и девочки на истопку полезли.
Ну, и тут же к нам пришли. Мы стоим все около печки. Вот так рученьки посжимали, а печечка горит. Ну, пришли… Высокий, высокий пришел, в очках. Вот, кажется, я и теперь его вижу, узнала б. Как пришел, так хату и раскрывает. За меня:
- Иди корову выпущай! А брата – на улицу.
Пошла я корову выпускать. А она ж не идет. Тоже боится, корова, аж на стену лезет. Я во двор из хлева вышла, а он меня как швырнет – дак я и полетела. Ручкой автомата ворсанул. Два раза. Первый раз я не полетела, дак он в другой раз.
Мама из хаты выходит. Мама как вышла, маму он и шахнул – всю вот тут шею продырявил, и все вот это отвалилось. И мать моя тут же и легла.
Он и ушел. Еще мне вот так ногой дал, и нас на улицу – корову гнать. Я эту корову на улицу вытурила. А там старик один, – он помер уже, – стоял… Корова стояла, а он так вот корову обнял… А его так били, так били!..
А я своему брату:
- Мой братка, говорю, мой братка, все поскрывались, а мы, говорю, вот и попадомся…
Вопрос: – А старик тот корову обнял, чтоб не вести?
- Не, его сильно били, он на корову обвалился и стоял. А тут коровы идут, кони ржут, – тоскливо, страшно было… Говорю:
-
Не спрятались, и все наше и пропало, браточка. Погибнем мы.
Ну, и стоим, куда ж идти, стоим среди улицы. Нема нигде никого – ну, ни души! Всех уже перебили.
Подходим вот сюда, на край, на краю стоим. А тут немцы лежат с этими пулеметами. Нам некуда. И идут они к нам.
- Ну, говорю, братка, погибнем мы. Давай утекать, чтоб утекающих нас, чем так…
Они пришли и говорят:
- Не удирайте, а то поубиваем. Погоните коров и поедете в Германию.
И другой подошел, тоже по-нашему разговаривал!
- Сколько вам лет?
Я говорю, что восемнадцать, а брату – четырнадцать…
А я вышла, правду вам сказать, только галоши на мне были, так вот, на босую ногу, и так вот – голая. Ничего на мне не было. Я говорю:
- Ну, давай убегать, Иван!.. – своему брату.
А в хате, что напротив, у них там деток было никак Семь или восемь. Дак там крику! Так кричат, так кричат – слышно!..
Ну, все – бежим! Ну, и побежали в лес, через чащу по болоту. А снег – вот так, до пояса. В болото влезла уже на ногах у меня ничего нет. А они по нас – так дают, так дают, вы не поверите… Но пуля в нас ни разочку не попала!..
Мы легли в этот снег, полежали, потом встали и сидели в лесу до вечера, пока не смерклось.
Нашли место партизанское: там они, видимо, ночевали – жарок еще был, еще висели веревочки. Он те веревочки взял, что партизаны оставили, а у него лапти были и онучи, дак он и мои обмотал ноги. А за ночь у меня ноги вот такие были, обморозила. Вот поглядите – и сегодня пальцев нема… Мы там побыли, переночевали. Я уже идти не могу… Брат мне две палки выломал… А в деревне убили в тот снежный день 297 человек…”
Воспоминания партизана Павловича Антона Николаевича из бывшей деревни Маковье:
Колодцы сожженных деревень…
Пожалуй, не меньше, чем обелиски-трубы в Хатыни и в Брицаловичах, поразило нас трагической тоскою зрелище колодезного журавля, точнее, одной только сохи от этого журавля, раздвоенной рогатины, торчащей в небо. Соха колодца – единственное, что осталось от деревни Маковье Осиповпчского района.
Остались еще от Маковья выбеленные дождями валуны да несколько одичавших яблонь. Другой колодец, что был на краю деревни, восстановили, над его срубом бездумно раскачивается смычок журавля, позванивая на ветру жестяным ведром. Этот колодец неподалеку от пастушьей хатенки, в которой хозяйствует дед Антон Николаевич Павлович, бывший партизан и единственный косвенный свидетель трагедии деревни.
“…Это в самые морозы было, в сорок третьем году, – Рассказывает он. – Утром оцепили деревню. Я из лесу тоже бежал домой. Тут по мне стреляют, а я кинулся в снег, удрал. Я хотел семью забрать в лес. У меня двое деток было. Ну, по мне стали стрелять, и я в лес, и крутился, значит, по лесу… Стояли они три дня. Туда нельзя было никак ткнуться, ткнусь – ракетой осветили, начал стрелять по мне.
Нас уже несколько человек собралось. Пришли – Все тут погорело… Мы на третий день собрали их, хоронили До войны тут сорок четыре двора было.
Я тут сторожую. И сенокос охраняю…”
Старик стоит на большой, засеянной тимофеевкой поляне, которая была когда-то деревней. С таким простым домовитым названием Маковье. В его памяти еще сохраняется картина былой деревни: хаты, дворы, фамилии людей… Стережет Антон Николаевич миражи своей юности. Рассказывая о старом селе, он в каком-то забытьи показывает пальцем на четыре валуна, описывает дом, который когда-то стоял на этом фундаменте, показывает на три березы среди поляны, говорит о срубе, в котором расстреляли и сожгли жителей Маковья.

На простеньком обелиске в кустах сирени написано, что деревню эту фашисты сожгли 8 января 1943 года, убили более 270 ее жителей, а также людей из других деревень, что уходили от карателей прятаться сюда, в лесную местность.
О памятнике в Брицаловичах
… И в сожженных врагом деревнях всегда оставались, гак два символа былой, кроваво растоптанной жизни, печь и криница, напоминания о хлебе и воде.
Мы у памятника жертвам фашистского зверства в деревне Брицаловичи Осиповичского района Могилевской области. Авторы мемориала – молодые скульпторы Крохалев, Андреев и Солятицкий.

На опушке дубравы, за которой струится живописная Свислочь, на пригорке поставлен обелиск. По обе стороны его – шесть мемориальных досок из бетона, от обелиска прямо в село ведет выложенная камнем стежка, на ней – постамент из полевых валунов и на постаменте – мальчик-подросток.

Обелиск напоминает одну из тех кирпичных труб, Что сломанными шеренгами стояли в войну на пепелищах сожженных врагом белорусских деревень. Через открытые устья и выбитые вьюшки в черные жерла труб врывался ветер, играл, как на органе, нескончаемый реквием по хозяевам. И слышали этот скорбный реквием уцелевшие люди. Жутко было на душе, ночью им снились замученные родственники, знакомые, соседи, они приходили как привидения, во сне и просили по-человечески предать земле их обгоревшие кости.
…
И в Хатыни, и в Брицаловичах скульпторы превратили печную трубу в обелиск, который тревожно напоминает людям об ужасах пережитого.
Обелиск – труба… Высокий, ровный, четырехгранный столб, в середине пустой. А бока – с пробоинами, как в настоящей трубе после пожара. Только пробоины эти образуют узор – стилизованную ветвь лавра. Это вам, мученики, труженики земли-матери, от тех, кому суждено было уцелеть и продолжить жизнь родной деревни, родной земли. Через прорези-листья видать полое нутро обелиска, оно отсвечивает белизною – это необычное жерло трубы. Ночью там загорается электрический свет и лавровые листья светятся, горят на звездном фоне ночного неба.
Две грани обелиска заполнены майоликовыми барельефами, которые лаконичным языком символов говорят о победе жизни над смертью, о красоте человека, занятого извечным трудом земледельца.
Неподалеку от обелиска старая сосна с аистиным гнездом на вершине. Сосна-вековуха засохла. Может, от старости, может – от жгучего горя ее земляков – людей… Аистиное гнездо – как терновый венок мучений, коронует ее порыжелую голову.
Аисты охотно водятся в этих местах – пойма Свислочи. Как раньше, как извечно, учат они круговому облету длинноногих, еще черноногих аистят. А вечерами стоят, подбирая под крыло то одну, то другую натруженную за день ногу. Стоят аистята молча. Эта сосна, гнездо и жители его – продолжение мемориала. Не только сосна, но и дубы, что тянутся от сосны к речке. Дубы на песчаном пригорке растут крупно, дорылись корнями до соков поймы и гонят листву густо, прикрывают густыми гирляндами желтые песчаные бугры и серую бетонную гладь массивных мемориальных досок, на которых выбиты все 576 фамилий жертв фашистской расправы. И снова жуткие колонки однофамильцев: Борозна, Борозна, Борозна, Ольховик, Ольховик, Ольховик… Десятки людей одного рода, одного корня…
Стоит поодаль от сосны и трубы-обелиска вылитый из красного бетона мальчик-подросток, один из брицаловичской детворы, которых перед войной щедро наносили в крестьянские хаты аисты. Большая была деревня – больше двухсот дворов, и в каждой хате были дети, много детей…

Построить в Брицаловичах памятник-мемориал – эту мысль подал колхозникам их председатель, бывший фронтовик Иван Борозна, младший брат которого командовал партизанским отрядом, что действовал в этих местах.
Отряд состоял преимущественно из брицаловичских парней. Их семьи стали первыми жертвами карателей. Сами они, партизаны, возродили деревню после войны: разобрали обгоревшие трубы, построили новые хаты, поочищали колодцы…
Колодцы сожженных деревень…
Воспоминания жительницы деревни Брицаловичи Анны Ивановны Потапейко (бел. Ганны Патапейка):
«… Я только как вошла в этот сарай, они крикнули:
- Киндер бросай!..
И те дети шли, взявшись за платье. И чужие, и мои. Четверо ж моих, а то несла на руках. Как вошли, так они и застрочили…
Стреляли, стреляли. Постреляли, а потом уже хохочут:
- Рус свинья капут!..
И еще постреляют, ногами пинают.
Ну, я и лежу так. Как полетела, так вот и лежу. А кровь же: поразрывало же все…
Потом пошли они в другой сарай, что поперек… Пошли, еще там хохочут, стреляют все там, лопочут.
Идут сюда! Что тут делать? Подымусь?.. Как подымусь, дак кровь – отовсюду… Ну, опять лягу туда. Лежу. Ну, они так пришли, еще кто стонет – повели очередь по нас и ушли. Хляп-хляп – ворота позакрывали и пошли в школу…”
..Ну, и как уехали они, фашисты, на партизан, да как зашли в землянку – их взорвало. Человек, може, десять… Ну, как взорвало их на тех минах, дак они вернулись, да окружили наше село… Уже не глядели ни на детей, ни на стариков, всех, всех согнали нас. Вот сюда где этот памятник, в сарай нас согнали. Колхозный был сарай, большой… Это вечером было, когда сгоняли, день малый был, дак вечером. Сгоняли нас, а мороз, мороз! Сильный! Как раз же коляды были, самый сильный мороз был, и снег был большой. Утекать – дак очень же трудно утечь. Прямо снег такой, как войдешь, дак и ног не сменишь.
Сидим, сидим, назавтра уже. Рассветает…
- Ну, что, говорят, ну, что будет? Что-то ж не пущают нас. Ну, говорят, это будут выгонять коров да все себе забирать, кур, коров, а тех уже будут гнать, молодежь, дак нас не выпущают, чтоб не плакали матери, да все там…
Это мы так решаем.
Ну, и сидим, поглядываем в окна… Ну, так часа в два – идут. Идут, ну, слава богу: будут нас выпущать! Идут, их много идет, и начальство уже, видим, идет. Ну, пущать будут. Э-э-э, как только открыли сарай – “Идем, идем на улицу!..” Вышли на улицу, они нас завернули туда на шлях. Ну, как завернули на шлях, уже мы поняли: что-то уже сделают. Уже стали бабы плакать, кричат уже…
Загнали туда, дак уже видим: и шапки лежат, и сумки те – наших мужчин… Тогда мы уже поняли, что будут и нас… Что-то сделают: сожгут или расстреляют. Уже в окна повставляли пулеметы, в каждое окно.
…Стали они в окно стучаться:
- Дайте нам человека.
Они уже так порасстреливали, что хозяйка была, варила им есть, дак и ту… И нема кому варить им еду. Женщина там с нами была, по-немецки говорила. Вышла она дитём – дак они за ребенка – выкинули, а ее повели. И тогда стали уводить. Человек по двадцать – расстреливать…”
Воспоминания бывшей жительницы деревни Брицаловичи Улиты Кондратьевны Ольховик (бел. Уліты Кандратаўны Альховік):
«…
Исступленная от ужаса, тяжело раненная женщина увидела ночью такое:
“…Вот тут груда людей лежала, – говорит Улита Кондратовна – вот, полный же ж двор, вся ж деревня лежала. И на дворе, и в сарае. И опустился вот этот месяц – низенько, низенько. И стоит на месяце человек. О халате белом… Не то что кто-то мне так говорил, – я сама из сарая видела это. Через щель. И ремнем подпоясанный, шапка зимняя, и в сапогах. На этом месяце стоит. Над убитыми…
Я тогда очень растеряна была. Не знала, куда мне деться. Две дочки расстрелянные, мужа расстреляли, а два хлопчика, не знаю, где они…
На месячике стоял… На самом месячике. А низенько очень круг опустился!.. А он на месяце стоит!.. Вот просто так обыкновенный человек, ремнем подпоясанный, белый халат на нем и штаны черные, в сапогах и шапка зимняя…
Я трое суток сидела в сарае с убитыми. Ну, все равно что убитых людей стерегла. На каждом углу страж стоял. Обойдет вот так кругом сарая и вот так ухо приложит да это слушает, дышат ли люди… А там, може, кто и живой был, дак уже дошел. Я если б еще одни сутки посидела, дак от воздуха задохнулась бы. Уже так ослабла, пить – трое суток не пивши…
А они из деревни все вывозили на машинах. Я через щель все видела. И грязное белье, и чистое, где что оставалось в хатах…
Ну, а потом уже они, вижу я, собираются ехать – уже облили сарай бензином, запалили. И тогда как-то приоткрылись ворота… Дак я думаю: “Чем мне уже кипеть в этом огне, дак я выйду во двор, нехай в спину стреляют”. Они туда-сюда по двору, а я так вот, через огород – и пошла! Я тогда вспомнила, что говорят: “Если тебя постигнет какое несчастье – иди и не оглядывайся!..” дак знаете, я вот так, спиной к ним, так вот, в лес Дошла, не оглядываясь. А они на дворе еще туда-сюда бегают.
Ну, там уже пришла я в лес. Рука ранена, дак смяло палец этот, потяну – не отрывается… А там – партизаны уже… Доктор сделала мне перевязку…”